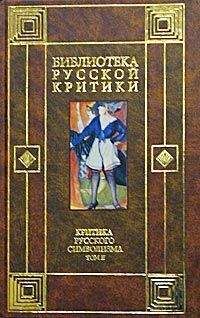Автор неизвестен - Журнал День и ночь
Иногда меня приводили в избу к прабабке Мырчихе. Вместе с Мырчихой жила большая семья её младшей дочери тёти Августы.
Прабабка Мырчиха была набожным человеком. Подумала не то, вспомнила некстати, зевнула, нетаковское слово выскочило… Её рука с тремя сжатыми перстами не уставала накладывать на грудь крёстное знамение.
На божничке у прабабки стояли иконы. На тусклой доске я однажды увидел головку Артурика из нашего детского садика.
К Мырчихе приходили старухи. Важные, в длинных юбках, цветастых платках. Они садились за самовар, пили чай из блюдечек, клали наколотый сахар, смотрели на блюдо с шаньгами и степенно разговаривали.
Одна старуха рассказывает. А пошла она в лес по ягоды. А попался навстречу нехороший мужик — Горев. Он церковь зорил, колокол сталкивал. А осенила себя крестом старуха, и обратился мужик в кабана противного, и бросился с хрюканьем в чашу непроходимую.
Разволновались старухи. Руками машут, как крыльями — ветряные мельницы. Но едва успокоились, Мырчиха заговорила:
— Моя икона на Успенье. мух ловила! Над столом опять появляется ветерок.
в моём доме летает самолётик, в избе у Мырчихи Спаситель ловнт мух.
Долго ли — коротко… Мамин брат, дядя Володя, привёз домой — в избу Мырчихи — два чуда из чудес: жену-москвичку и телевизор.
В галифе из чёртовой кожи и латаной телогрейке, пропитанный духами, пахнущий водкой дядя Володя взял ружьё, пошёл в сарай, раздался выстрел.
Матёрый прабабкин хряк полежал немножко с окровавленной мордой и заорал на дядю голосом нехорошего мужика:
— Ты ково делашь?!
Началась паника.
Свирепеюший дядя кинулся к патронташу. Восьмилетний Витька выхватил из-под мышки длинный кухонный ножик, как саблю. А я и жена-москвичка, как при бандитском налёте, спрятались на сундук, за спину прабабки Мырчихи. Оказалось, что Витька из патрона навыколупывал дроби для поджига. И досталось в ухо хряку пыжами от валенка.
…Москвичка Мырчихе не понравилась: корову доить не умеет, чугунки чистить — не нраавится! Её отправили обратно.
Дядя Володя после Москвы уехал покорять север. А телевизор остался. Это был первый телевизор в нашем посёлке.
На кухне меня поймали за руку. В открытой яме было шумно. Огурцы на Витькиной шабале шевелили попками и сваливались обратно в бочку. Редкой картечью летел из ямы огуречный рассол.
Дядя Яков на низеньком табурете у печки дёрнул рукой как ошпаренный. И Силой Небесной навис над дырой:
— Че там у тебя?
Витька, наверное, вывихнул шею от окрика.
— Опять сорвался! — испуганный, он показал отцу мокрую шабалу с дырками в форме пятиконечной звезды и лучей.
— Ты забыл, че там висит?! — прогремел дядя Яков Боженькой.
Солёный мокрый Витька затих. Вспоминал. До-олго. Как нечитанный параграф. Вытянул губы трубочкой. Взгляд затуманился, но голова отца не исчезала.
— А что висит? — спросил я дядю Якова свободно.
— А икона для неслухов. Только не молятся почему-то!
На голой стене суровым украшением висел изношенный офицерский ремень с железной пряжкой и заштопанным следом от немецкой пули.
Тётке Августе было четырнадцать, когда единственный сын Мырчихи, дядя Коля, поехал на Тракторный, на вечорку. В барачном посёлке дяде Коле воткнули нож в спину. Тюленью шубу с несоскобленной кровью убрали. Теперь тёте Клавдии за сорок. Тюленья шуба отыскалась. Её забросили на полати, к стареньким польтушкам. Однажды я просил:
— Дяденька Витенька, покажи… ну, покажи мне дырку от ножика.
Но восьмилетний мой дяденька куражился:
— И смотреть не-ко-го и вставать мне неохота… Мама запаниковала:
— Не показывай. Смотри не показывай! Меня срочно эвакуировали с прабабкиных
полатей.
В избе у Мырчихи, из разговоров я узнавал, как в свирепый голод — однажды! — слепой старик на дороге зарезал мальчика-поводыря, чтобы съесть его. Как у Мырчихи отбирали полторы избы, её на санях увозили на кулацкие выселки… Зимовали в сарае, рядом с коровой, без чая, без печки. Но сундучное имущество — и тюленью шубу, и тусклые доски икон ей тогда сберегли татары.
Спички древнего человека
— У бабки спичины лежат, от древних людей остались, они костры разжигали.
Ещё картинка была — люди мамонта встречают. Хотел показать ей картинки. Может, признает кого их наших — деверя там, свата какого…А она — «В книгах черти». И на сундук уползла.
Светило солнце. Искрился снег. С восьмилетним Витькой мы сидели на саночках посреди широкой дороги.
Ножку я вытянул, другую согнул, ручки положил на коленочки, как старичок, Никита Павлович. Я жалел сейчас, что нога у меня не деревянная, с круглым, чёрным галошиком на конце.
По-доброму так, с прищуром, посмотрел я на умного своего дядюшку, и спросил:
— А трамваи были?
— Да ты тёмный совсем, — подпрыгнул Витька. — Трамваев не было. На лошадях ездили, в бричках. Пошли, поп, мне скорее надо.
На дяденьке детская солдатская телогреечка. По снегу за ним волочились большие варежки — шубинки. А я — в пальто! В таком тяжёлом и толстом, что всегда хотелось взять ножницы и посмотреть — что там внутри?
У ворот мой дяденька сказал:
— Сей-час бе-ги! Тимошка догнать не успеет — и не укусит! У нас все гости до крыльца бегают.
Я стоял весь в снегу. Нос в испарине. Шапка с резинкой вокруг головы сидела боком. Обронён-ная варежка воткнута сзади за воротник.
Витька пихнул саночки, и меня
— Смотри не падай! Наступила ночь.
Отгоняя бесов молитвами, поднялась Мырчиха.
Скрипнул сундук, потом половицы: одна-вторая, одна-вторая, зашаркала на кухню.
Из клубящейся темноты на мою подушку что-то прыгнуло. Черти лохматые, и пахнут ночным ведром. А пахло тройным одеколоном.
Двойняшка — Витькина сестрёнка через меня дотянулась до плеча матери.
— М! — коротко и громко сказала тётка Августа во сне.
— Бабка военные спички понесла! — отчеканила ябеда.
Тётка просыпалась — медлила, зевала. Двойняшка вздрагивала, будто кто её щипал.
Никола зимний. Молиться будет.
Она ещё вчера сундук открывала.
Девочка положила руку на руку, с вытянутыми ладошками, на высокую подушку и на моё лицо.
— Витька, стихотворение выучил? — наконец, веско спросила тётка Августа.
Локоток заездил по моему носику.
В полном разгаре страда деревенская,
Долюшка русская, долюшка жён.
— Нет, не выучил. Он за этим ходил. Локтем ткнула в моё лицо.
— Целый день ходил?
— Весь день!
Я заморгал, касаясь ресницами её тёплой кожи. Двойняшка почесалась, и положила руки на место.
— А Серёжка Куприков сказал, что у кого Ленин. Владимир Ильич на груди выколот — тех не расстреливают…
Молчание
— А наш Витька сказа-а-а-а-л…Витька сказал…Что октябрятскую звёздочку на ж…пе носить будет — на трусы прицепит, его ремнём бить не смогут.
Тётка сматерилась, заворочалась подо одеялом, как медведица в берлоге. Бабкин внук!
На кухне затрещало. Под треск древней спички Двойняшка исчезла.
— Опять лучиной запахнет! Дымнуху свою вспомнила! — ворчала медведица.
С божнички разлилось мягкое отражение далёкого света.
Пёс прикидывается замерзающим кулаком — стонет протяжно в будке.
Натыкаясь на палки подсолнухов с сухими листьями и… головами, мимо чучела в её собственном истлевшем платке, по наметённому снегу, через весь огород, бредёт Мырчиха.
За баню, с кусочком болота. До ветру.
Выброшенный Цезарь
С мамой и маленьким братиком мы жили в пристанционном посёлке. За окнами — днём и ночью — поезда.
Несущийся поезд — это кочующее землетрясение, почти природное явление. Уборка в доме начиналась с замазки осыпавшейся печи белой татарской глиной.
Мама привела домой закутанную в платки Мырчиху, потом ушла на работу.
Старуха приманила конфетой двухлетнего братца и пояском перехватила ножку, другой конец верёвочки привязала к ножке кровати, аки телёнка на полянке, к колышку. И легла спать.
Возмущённый братец орал так, что мама должна была услышать его на заводе. Как я тогда хотел, чтобы папа поскорее возвращался из армии!
Но папа не ехал. А привезли старухин сундук (на кровати спать не умела).
Потом появились в доме иконы.
Он приехал, когда я ходил в первый класс.
Дети предвидят события чаще, чем взрослые.
В тот осенний серенький денёк меня не могли отогнать от будильника.
Взрослым сказал: жду папу! Они не ждали, а я — ждал!
Наконец, пришла обеденная электричка, и случилось чудо: на привокзальном бугре появился он.
Моя радость продолжалась сорок минут. Ещё оживлённая мама сидели за столом. Мырчиха подозрительно поглядывала на меня: всё не могла решить, кто я — ангел, или сатана!